Новая книга Владимира Гельмана

Чиновники Министерства государственных имуществ, 1884 год.
Wikimedia Commons
Всё в государстве сознательно выстроено не для того, чтобы люди жили лучше, а для того, чтобы элита могла извлекать ренту из подконтрольных ресурсов
Известный политолог, профессор Европейского университета и университета Хельсинки Владимир Гельман нашел любопытный термин для характеристики того, что мы наблюдаем в нашей стране при Владимире Путине: недостойное правление. Именно так – «Недостойное правление. Политика в современной России» – называется его новая книга(https://eupress.ru/books/index/item/id/335), вышедшая только что в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Термин этот – не просто образная характеристика политического режима. В политологии существует выражение bad governance.Перевести его на русский просто как «плохое управление» было бы неточно. Смысл это выражение имеет значительно более глубокий. Дело не в том, что кто-то чем-то плохо управляет. Дело в том, что в определенных странах (как в прошлом, так и в настоящее время) создавались своеобразные системы, при которых «кумовской» капитализм сочетался с электоральным авторитаризмом и низким качеством государства.
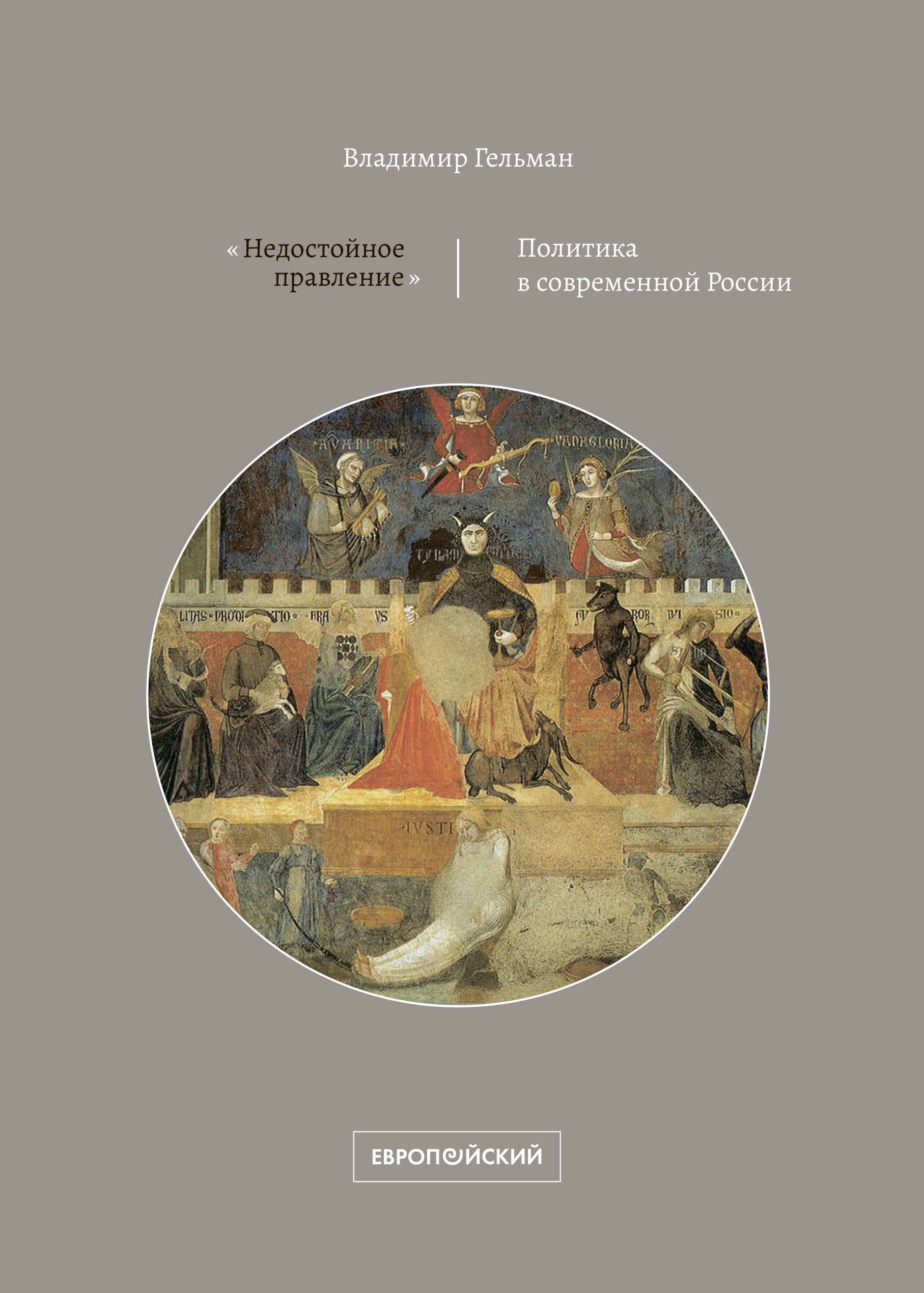
Именно о такой системе, сложившейся в путинской России, пишет Гельман. И проблема этой системы состоит вовсе не в том, что власти чего-то не знают, что советники им не подсказывают, а у исполнителей руки не из того места растут.
Проблема состоит в том, что при bad governance все в государстве сознательно выстроено не для того, чтобы люди жили лучше, а для того, чтобы определенные лица могли извлекать ренту из находящихся под их контролем ресурсов. А следовательно, бессмысленны всякие популярные в современной России вопросы типа «Куда смотрит Путин?», «Почему они там наверху не думают о народе?», «Где же экономисты, способные написать для правительства хорошую программу?». Все эти вопросы исходят из преставления о достойном правлении, которое сопровождается нехваткой знаний и умений. А правление-то у нас совсем иное. И Гельман довольно точно отразил его суть в названии своей книги.
«Кумовской» капитализм позволяет «своим людям» получать большие деньги благодаря тому, что они допущены к дорогостоящим госконтрактам, к управлению госкомпаниями, контролирующими ресурсы, а также к силовым акциям, благодаря которым у нас имущество часто переходит из рук одних бизнесменов в руки совершенно других. Электоральный авторитаризм – это система, формально похожая на демократию, но реально устроенная так, что регулярно проходящие выборы ничего демократического в нашу жизнь не привносят: побеждают на них одни и те же силы, контролирующие всю политическую систему и систему пропаганды.
Именно электоральный авторитаризм позволяет «кумам» процветать, поскольку при регулярной смене власти, характерной для демократии, присосаться к «кормушке» значительно сложнее. А когда власть основывается на электоральном авторитаризме, порождающем «кумовской» капитализм, неизбежно возникает низкое качество государства: ему никак не удается решать те проблемы, которые важны для общества (рост ВВП, социальная защита, сохранение природы), но успешно удается решать проблемы, которые важны для правителей и их «кумов».
Откуда возникло у нас недостойное правление? На этот счет существуют разные мнения. Все чаще в научной литературе и публицистике можно сейчас встретить представление, будто Россия своей культурой обречена на автократию, коррупцию и тому подобные вещи. Иными словами, в России всегда все будет недостойно, всегда будут то Иваны Грозные, то Сталины, то Путины… Гельман показывает в своей книге, что это не так. Причины недостойного правления не стоит списывать на культуру.
Я рассматриваю формирование в России «недостойного правления» как результат рациональной стратегии правящих групп, направленной на максимизацию власти и господства в политике, богатства и ренты в экономике и на сохранение такого положения дел на протяжении максимально доступного для них периода времени.
Иными словами, наши правители получили именно то, что хотели. Не следует их рассматривать, как людей, постоянно ошибающихся. Они хотели «кумовской» капитализм с электоральным авторитаризмом – они его и получили. Причем выстроили они эту систему весьма профессионально. Естественно, если под профессионализмом понимать умение добиваться своих истинных целей, а не стремление сделать Россию успешной и процветающей страной.
И еще надо выделить один важный момент, по которому позиция Гельмана существенно отличается от позиции целого ряда исследователей. Автор книги отмечает:
«Недостойное правление» невозможно улучшить путем отдельных изменений в конкретных формах управления. Вместе с тем полный пересмотр и отказ от его принципов оказывается невозможен без смены политического режима в стране.
Иными словами, мы должны четко понимать, что недостойное правление создавалось не для того, чтобы правители позволили отдельным энтузиастам проводить реформы, нацеленные на расширение рыночных начал в экономике, демонополизацию, приватизацию государственной собственности, расширение местного самоуправления и т. д. Не случайно практически все попытки так называемых системных либералов осуществить какие-то позитивные преобразования заканчиваются сейчас либо профанацией реформ, либо прямым отказом от них. Подобные неудачи отдельных энтузиастов – вовсе не случайность, а характерная черта системы «недостойного правления», которая защищается от попыток сделать ее хоть сколько-нибудь достойной.
В этой связи Гельман рассматривает одну из наиболее интересных проблем авторитарного правления. Возможна ли авторитарная модернизация, о которой до сих пор мечтают многие люди, не слишком верящие в реальность демократизации России? Теоретически она возможна, конечно, но, цитирует Гельман экономиста Дани Родрика, «на каждого Ли Кван Ю в Сингапуре приходится много Мобуту в Конго».
Есть в мире, конечно, страны, которые добились успеха (хотя бы частичного) благодаря авторитарной модернизации. И в России она тоже имела место в прошлом: Великие реформы Александра II, финансовые преобразования Сергея Витте, столыпинская реформа… Но велика ли вероятность того, что при утвердившемся в стране «недостойном правлении» вдруг автократия станет созидательной?
Любые проекты модернизации (даже в «узком» авторитарном формате) и сопровождающие их реформы политического курса становятся слишком рискованными для электоральных авторитарных режимов.
К такому выводу приходит Гельман, и надо сказать, что российская действительность пока подтверждает его.
Кстати, следует заметить, что в книге о «недостойном правлении» практически нет теоретического анализа автократии: все проблемы разбираются на практическом российском материале. Но, думается, в этом нет большой беды. Недавно изданная книга другого профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова «Автократия, или Одиночество власти» удачно дополняет книгу Гельмана. Так сложилось, что я читал их одну за другой, и у меня возникло впечатление о своеобразном «двухтомнике», хотя, конечно, авторские позиции не во всем совпадают.
Включаясь в знаменитый спор, является ли Россия нормальной страной, пригодной для развития, Гельман отмечает, что наша страна напоминает школьную троечницу:
Она кое-как справляется с текущими проблемами, но не в состоянии кардинально улучшить свои оценки (ухудшить, правда, тоже). И как многие школьные «троечницы», она одновременно и завидует успешным «отличницам», и противопоставляет себя им.
Так что же в итоге нас ждет? Серьезный аналитик никогда не станет предсказывать будущее, и Гельман не пытается это делать. Однако умеренный оптимизм на страницах его книги можно обнаружить. Он представляет российский путь как дорогу, с которой водитель по ошибке свернул в тупик:
Хороший водитель отличается от плохого не тем, что он никогда не попадает в тупик, а тем, что способен, вовремя признав ошибку, поменять направление движения, вернуться на развилку и в конце концов выбрать верный путь.
У России, бесспорно, есть возможность признать ошибку и вернуться к нормальному развитию. Хотя для этого придется изменить всю политическую систему, которая сложилась в последние годы.
Дмитрий Травин
Научный руководитель Центра исследований модернизации ЕУСПб
27 АВГУСТА 2019

Чиновники Министерства государственных имуществ, 1884 год.
Wikimedia Commons
Всё в государстве сознательно выстроено не для того, чтобы люди жили лучше, а для того, чтобы элита могла извлекать ренту из подконтрольных ресурсов
Известный политолог, профессор Европейского университета и университета Хельсинки Владимир Гельман нашел любопытный термин для характеристики того, что мы наблюдаем в нашей стране при Владимире Путине: недостойное правление. Именно так – «Недостойное правление. Политика в современной России» – называется его новая книга(https://eupress.ru/books/index/item/id/335), вышедшая только что в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Термин этот – не просто образная характеристика политического режима. В политологии существует выражение bad governance.Перевести его на русский просто как «плохое управление» было бы неточно. Смысл это выражение имеет значительно более глубокий. Дело не в том, что кто-то чем-то плохо управляет. Дело в том, что в определенных странах (как в прошлом, так и в настоящее время) создавались своеобразные системы, при которых «кумовской» капитализм сочетался с электоральным авторитаризмом и низким качеством государства.
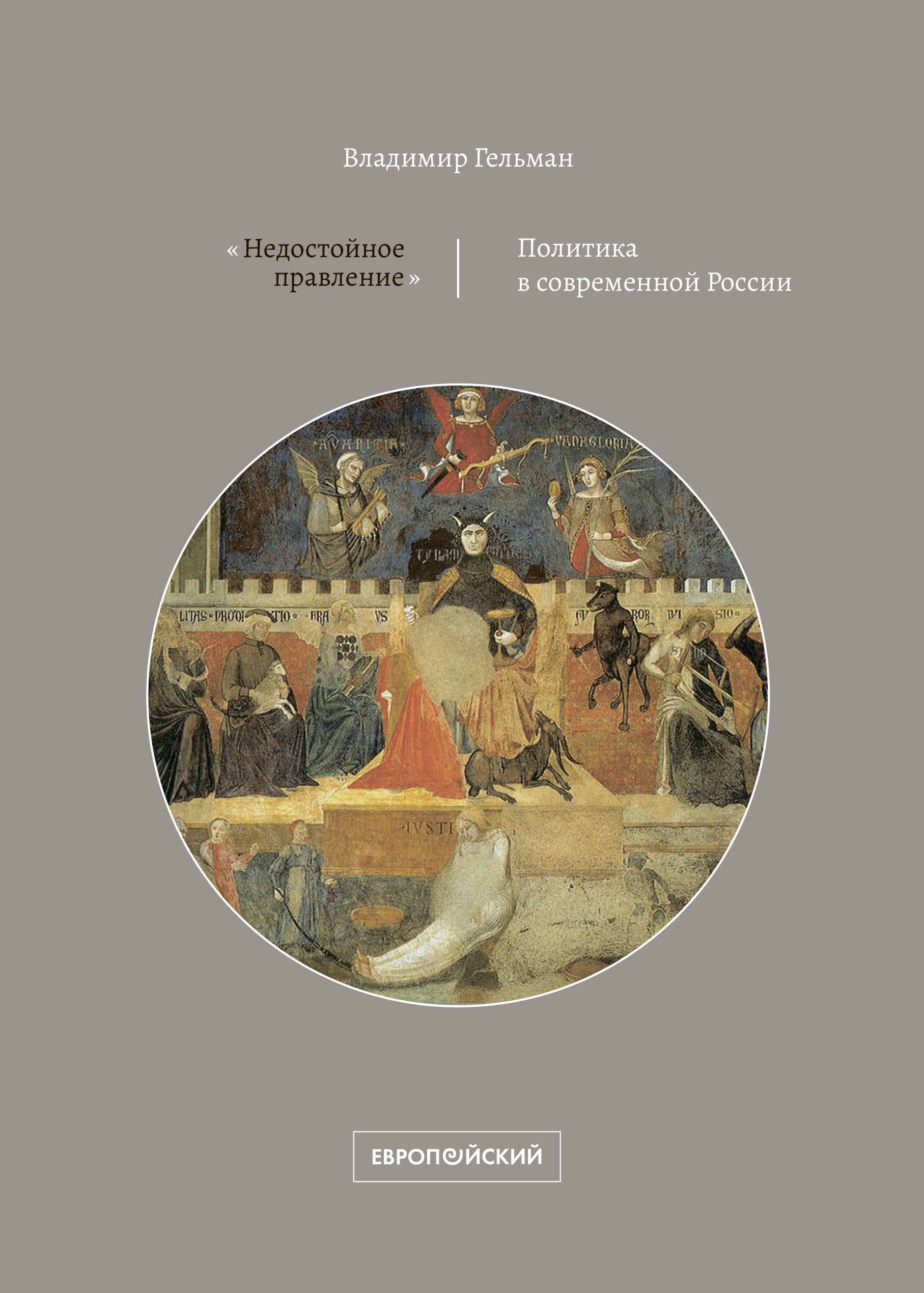
Именно о такой системе, сложившейся в путинской России, пишет Гельман. И проблема этой системы состоит вовсе не в том, что власти чего-то не знают, что советники им не подсказывают, а у исполнителей руки не из того места растут.
Проблема состоит в том, что при bad governance все в государстве сознательно выстроено не для того, чтобы люди жили лучше, а для того, чтобы определенные лица могли извлекать ренту из находящихся под их контролем ресурсов. А следовательно, бессмысленны всякие популярные в современной России вопросы типа «Куда смотрит Путин?», «Почему они там наверху не думают о народе?», «Где же экономисты, способные написать для правительства хорошую программу?». Все эти вопросы исходят из преставления о достойном правлении, которое сопровождается нехваткой знаний и умений. А правление-то у нас совсем иное. И Гельман довольно точно отразил его суть в названии своей книги.
«Кумовской» капитализм позволяет «своим людям» получать большие деньги благодаря тому, что они допущены к дорогостоящим госконтрактам, к управлению госкомпаниями, контролирующими ресурсы, а также к силовым акциям, благодаря которым у нас имущество часто переходит из рук одних бизнесменов в руки совершенно других. Электоральный авторитаризм – это система, формально похожая на демократию, но реально устроенная так, что регулярно проходящие выборы ничего демократического в нашу жизнь не привносят: побеждают на них одни и те же силы, контролирующие всю политическую систему и систему пропаганды.
Именно электоральный авторитаризм позволяет «кумам» процветать, поскольку при регулярной смене власти, характерной для демократии, присосаться к «кормушке» значительно сложнее. А когда власть основывается на электоральном авторитаризме, порождающем «кумовской» капитализм, неизбежно возникает низкое качество государства: ему никак не удается решать те проблемы, которые важны для общества (рост ВВП, социальная защита, сохранение природы), но успешно удается решать проблемы, которые важны для правителей и их «кумов».
Откуда возникло у нас недостойное правление? На этот счет существуют разные мнения. Все чаще в научной литературе и публицистике можно сейчас встретить представление, будто Россия своей культурой обречена на автократию, коррупцию и тому подобные вещи. Иными словами, в России всегда все будет недостойно, всегда будут то Иваны Грозные, то Сталины, то Путины… Гельман показывает в своей книге, что это не так. Причины недостойного правления не стоит списывать на культуру.
Я рассматриваю формирование в России «недостойного правления» как результат рациональной стратегии правящих групп, направленной на максимизацию власти и господства в политике, богатства и ренты в экономике и на сохранение такого положения дел на протяжении максимально доступного для них периода времени.
Иными словами, наши правители получили именно то, что хотели. Не следует их рассматривать, как людей, постоянно ошибающихся. Они хотели «кумовской» капитализм с электоральным авторитаризмом – они его и получили. Причем выстроили они эту систему весьма профессионально. Естественно, если под профессионализмом понимать умение добиваться своих истинных целей, а не стремление сделать Россию успешной и процветающей страной.
И еще надо выделить один важный момент, по которому позиция Гельмана существенно отличается от позиции целого ряда исследователей. Автор книги отмечает:
«Недостойное правление» невозможно улучшить путем отдельных изменений в конкретных формах управления. Вместе с тем полный пересмотр и отказ от его принципов оказывается невозможен без смены политического режима в стране.
Иными словами, мы должны четко понимать, что недостойное правление создавалось не для того, чтобы правители позволили отдельным энтузиастам проводить реформы, нацеленные на расширение рыночных начал в экономике, демонополизацию, приватизацию государственной собственности, расширение местного самоуправления и т. д. Не случайно практически все попытки так называемых системных либералов осуществить какие-то позитивные преобразования заканчиваются сейчас либо профанацией реформ, либо прямым отказом от них. Подобные неудачи отдельных энтузиастов – вовсе не случайность, а характерная черта системы «недостойного правления», которая защищается от попыток сделать ее хоть сколько-нибудь достойной.
В этой связи Гельман рассматривает одну из наиболее интересных проблем авторитарного правления. Возможна ли авторитарная модернизация, о которой до сих пор мечтают многие люди, не слишком верящие в реальность демократизации России? Теоретически она возможна, конечно, но, цитирует Гельман экономиста Дани Родрика, «на каждого Ли Кван Ю в Сингапуре приходится много Мобуту в Конго».
Есть в мире, конечно, страны, которые добились успеха (хотя бы частичного) благодаря авторитарной модернизации. И в России она тоже имела место в прошлом: Великие реформы Александра II, финансовые преобразования Сергея Витте, столыпинская реформа… Но велика ли вероятность того, что при утвердившемся в стране «недостойном правлении» вдруг автократия станет созидательной?
Любые проекты модернизации (даже в «узком» авторитарном формате) и сопровождающие их реформы политического курса становятся слишком рискованными для электоральных авторитарных режимов.
К такому выводу приходит Гельман, и надо сказать, что российская действительность пока подтверждает его.
Кстати, следует заметить, что в книге о «недостойном правлении» практически нет теоретического анализа автократии: все проблемы разбираются на практическом российском материале. Но, думается, в этом нет большой беды. Недавно изданная книга другого профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова «Автократия, или Одиночество власти» удачно дополняет книгу Гельмана. Так сложилось, что я читал их одну за другой, и у меня возникло впечатление о своеобразном «двухтомнике», хотя, конечно, авторские позиции не во всем совпадают.
Включаясь в знаменитый спор, является ли Россия нормальной страной, пригодной для развития, Гельман отмечает, что наша страна напоминает школьную троечницу:
Она кое-как справляется с текущими проблемами, но не в состоянии кардинально улучшить свои оценки (ухудшить, правда, тоже). И как многие школьные «троечницы», она одновременно и завидует успешным «отличницам», и противопоставляет себя им.
Так что же в итоге нас ждет? Серьезный аналитик никогда не станет предсказывать будущее, и Гельман не пытается это делать. Однако умеренный оптимизм на страницах его книги можно обнаружить. Он представляет российский путь как дорогу, с которой водитель по ошибке свернул в тупик:
Хороший водитель отличается от плохого не тем, что он никогда не попадает в тупик, а тем, что способен, вовремя признав ошибку, поменять направление движения, вернуться на развилку и в конце концов выбрать верный путь.
У России, бесспорно, есть возможность признать ошибку и вернуться к нормальному развитию. Хотя для этого придется изменить всю политическую систему, которая сложилась в последние годы.
Дмитрий Травин
Научный руководитель Центра исследований модернизации ЕУСПб
27 АВГУСТА 2019